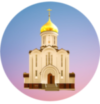Беседы на Светлой Седмице

Для угнетенного всякого рода бедствиями, смертного рода человеческого ничего не может быть нужнее, как прозрение оком упования в ту сторону, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания! – И действительно, мысль и желания человеческие во все времена и у всех народов устремлялись за пределы сей жизни.
Но кто мог рассеять мрак гроба? – ниспровергнуть сию преграду? -Являлись мудрецы; но, приходя «от земли» (Ин. 3:31), о земле и говорили; хвалились, что «свели философию с неба», а на небо не возвели ни одного человека. Приходили пророки, наставляли, обличали, утешали; но потом сами умирали, не прияв «обетования» (Евр. 11:39), и над их гробами лились слезы, слышались вздохи. Только Энох и Илия воспарили над бездной тления; но воспарили подобно уединенным орлам, коих след незрим оком человеческим. Над всем прочим родом человеческим царствовала смерть с такой свирепостью, что во время Иисуса Христа не только многие из мудрецов языческих, даже великая часть народа Божия отвергла всякую надежду на бессмертие, глаголя «не быти воскресению» (Мф. 22:23).
Надлежало восставить падшую надежду и явить пред лицом всего мира, что только тело человека возвращается на землю, а дух возвращается «к Богу, Иже даде его» (Еккл. 12:7). И вот в Воскресении Спасителя совершается торжество надежды!
Торжество чудное. Всемогущество Божие могло бы вслух всех людей возвестить обетование живота вечного, как возвещен некогда закон вслух всех израильтян: оно могло бы сотворить Ангелами Своими «ветры» и слугами Своими «огонь палящ» (Пс. 103:4), да вразумят смертных, что после отечества земного, временного, их ожидает отечество небесное, вечное. – Но что делает премудрость Божия? – Гроб и смерть были виной страха и отчаяния человеческого: она гроб обращает в источник надежды, смерть принуждает быть проповедницей бессмертия.
Ибо, для чего другого служит теперь гроб Иисуса Христа, который один только в воскресение мертвых не отдаст мертвеца своего, как не в доказательство того, что и все гробы некогда опустеют и отдадут мертвецов своих? – К чему послужила смерть Иисуса Христа, как не к уверению, что смерть есть только страж, который хранит то, что ему предано, хранит дотоле, доколе угодно Господу жизни, и что во власти сего стража находится только бренный состав наш, а не дух, совершенно не знающий гроба и смерти?
Торжество трогательное. Если бы Бог для освобождения нас от страха смерти повелел умереть и воскреснуть какому-либо великому праведнику, то мы и тогда не имели бы причины страшиться мрака смертного: ибо невозможно, чтобы правосудный Бог подверг праведника смерти, если бы она была зло действительное. Но теперь сам Сын Божий благоволил вкусить за нас смерть самую мучительную: после Его вкушения может ли быть через меру горька для нас чаша смерти? И могла ли любовь Отца Небесного трогательнее утешить нашу надежду?
Торжество самое верное. Решительно должно сказать, что все доказательства бессмертия, употребляемые разумом, не имеют столько силы, сколько заключает оной в себе одно Воскресение Иисуса Христа. Верить этому воскресению и сомневаться в нашем воскресении, есть совершенное противоречие. «Аще… Христос… воста, – писал некогда апостол Павел к коринфянам, – како глаголют нецыи… яко воскресения мертвых нест? Аще воскресения мертвых несть; то ни Христос воста» (1Кор. 15:12–13). В самом деле, Христос есть глава верующих: когда воскресла глава, то как могут остаться мертвыми прочие члены? Христос есть Царь; над кем же Он будет царствовать, если подданные останутся в гробах?
Торжество полное. Надежда на бессмертие духа человеческого, хотя слабая, и прежде была в роде человеческом. Воскресение Иисуса Христа, утверждая сию надежду, расширило ее область, показав, что не только дух человеческий не умирает, но и тело соделается некогда бессмертным, – что наступит день, когда и сие «тленное облечется нетлением» и сие «пожерто будет мертвенное животом» (1Кор. 15:53. 2Кор. 5:4).
Торжество, наконец, величественное. Что величественнее прославленного человечества Иисуса Христа? Но, по уверению апостола, настанет время, когда Он «преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его» (Флп. 3:21). О братие, какое хладное сердце не возрадуется при этом и не проникнется огнем любви к Воскресшему!
Много было обещано, когда Он сказал, что в воскресение верующие в Него будут, «яко Ангели Божии на небеси» (Мф. 22:30). Ибо человеку ли быть ангелом? Но вот по воскресении Своем Господь еще щедродательнее: Он Сам не хочет иметь ничего, кроме божества, чего бы не разделил с нами. Его пречистое тело страданиями заслужило славу. Наше тело будет подобно Его телу: не будет иметь только язв, кои остались на пречистой плоти Его; одно это преимущество остается за Ним.
Да будет же «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа …по мнозей Своей милости порождей нас во упование живо воскресением Иисус Христовым от мертвых» (1Пет. 1:3). Господь, Сам Господь сотворил день сей: да «возрадуемся и возвеселимся в онь!» (Пс. 117:24). Воистину он есть праздников праздник и торжество из торжеств: торжество веры, добродетели и упования. Все убо да торжествуем пред лицом воскресшего Господа!
Но, братие, торжествуя, мы должны, по слову апостола, памятовать, что «Пасха наша», за нас закланная, есть Сам Христос; а посему должны и праздновать «ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасиих чистоты и истины» (1Кор. 5:7–8).
О Пасхе ветхозаветной сказано было в законе, что необрезанный не должен вкушать ее (Исх. 12:48). И истинной Пасхи христианской не вкусит тот, кто не обрезан сердцем, предан порокам. Напрасно таковый будет повторять: «Христос воскресе!» «Так, – скажет ему Господь, – Я воскрес, но не в тебе; в твоем сердце Я мертв и доселе; камень ожесточения твоего подавляет Меня; стражи – злые навыки и страсти – окружают и блюдут Меня». Напрасно таковый будет давать и принимать лобзания любви и мира: воскресший Спаситель и ему скажет: «лобзанием ли Сына Человеческого предавши!» (Лк. 22:48). О братие, не изменим нашими грехами и пороками воскресшему Спасителю: Он и без того очень много страдал за нас! Если бы Он явился теперь, и вопросил каждого из нас, как Петра: «Любиши ли Мя?» – без сомнения, каждый отвечал бы: «ей, Господи… люблю Тя» (Ин. 21:16). Но «аще любите Мя, – сказал Он ученикам Своим, отходя на страдания, – заповеди Моя соблюдите. Соблюдай заповеди Моя, той есть любяй Мя» (Ин. 14:15–21). Аминь.
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический